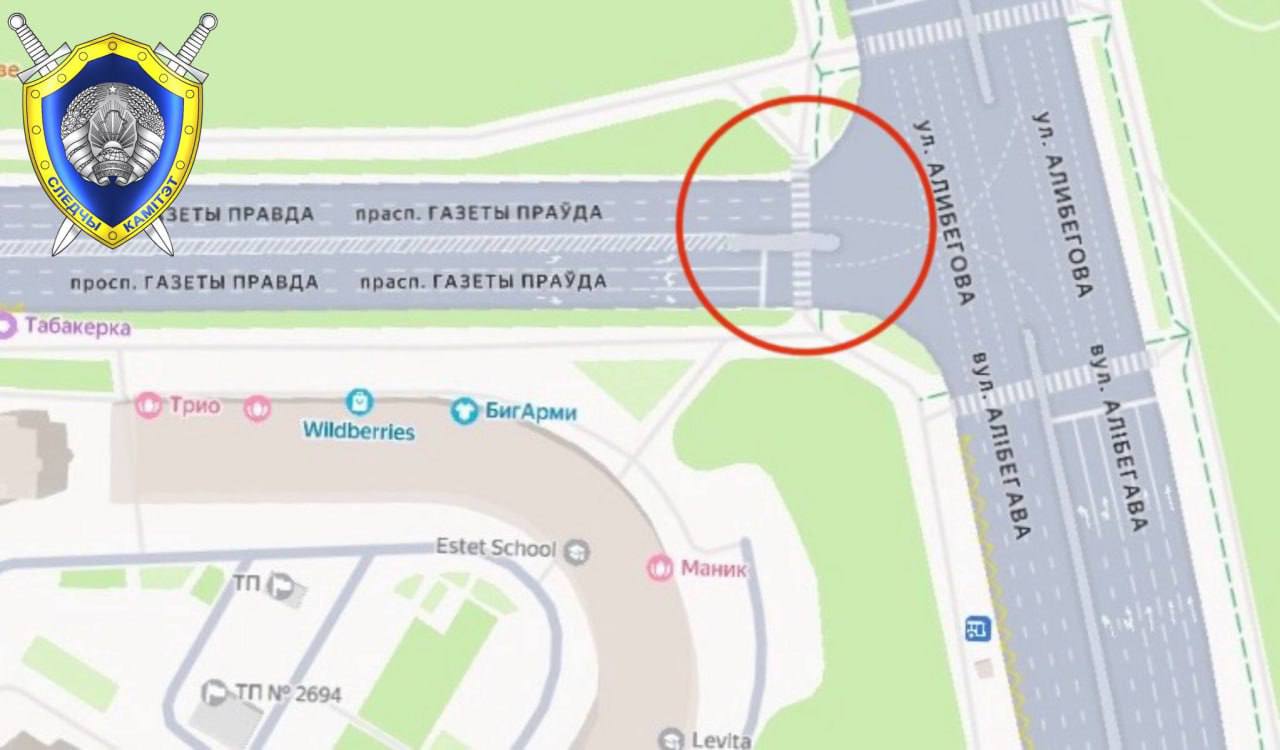Он создал оригинальную научную школу европейского уровня. Путь к вершине профессора Георгия Новикова
Жизнь моего деда, профессора Георгия Ивановича Новикова, разделена примерно на две равновеликие части. Первую он прожил в России, вторую — в Беларуси. И если в первом периоде он формировался как крупный специалист и ученый, то во втором — реализовал очень серьезные планы, создал оригинальную научную школу европейского уровня, работал в тандеме со всемирно известным академиком Легасовым… И довольно драматично завершил свой путь. Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Была война
Его молодость складывалась обычно и необычно одновременно. Здесь больше подходит стиль азбуки Морзе: точка — тире. Он родился в феврале 1924-го. Летом 1941 года с отличием окончил саратовскую среднюю школу, и началась Великая Отечественная война. Как и многие сверстники, стал рваться на фронт, несмотря на несовершеннолетие. И во второй половине 1942-го оказался на передовой. Мог бы «откосить» по состоянию здоровья, были проблемы со зрением, но куда там… Тогда и слов таких не знали.
Согласно архивным данным, Георгий Иванович Новиков за три года службы освоил сразу три военные специальности: «разведчик-пехотинец», «боец лыжного батальона» и «радиотелеграфист». Впрочем, о войне в семейном кругу он почти ничего и никогда не рассказывал, на встречи ветеранов не ходил и школьникам про свой вклад в Победу не говорил, так как считал это нескромным. А рассказать ему было что: получил тяжелое ранение на легендарной Курской дуге, принимал участие в освобождении Белоруссии, в частности Витебска и Бобруйска, заканчивал войну в Прибалтике… Глубокий страшный шрам под левой лопаткой от осколка немецкой мины, полученного под Курском, остался у него навсегда.

Подчеркну отдельно и с большой гордостью. После выхода из госпиталя он воевал в дивизии, которую за успешный прорыв обороны немцев под Витебском в 1944-м удостоили звания гвардейской. А ефрейтора Новикова наградили главной солдатской медалью — «За отвагу», он ею чрезвычайно гордился. Неспроста Георгий Иванович связал судьбу через 20 с небольшим лет именно с БССР. Такое не забывается. Дед уже в предельно зрелом возрасте довольно часто называл себя счастливцем: ему удалось выжить, остаться человеком и заняться любимым делом — главным в жизни.
Путь к вершине
В родном Саратове, еще зеленым пацаном, его тянуло к изобретательству, созданию чего-то принципиально нового. Вот и в действующей армии этот парень пытался внедрить миномет собственной конструкции. Правда, орудие благополучно взорвалось при первом же испытании. Счастье, что никто не пострадал…
Когда ефрейтор Новиков дослуживал срочную службу в Прибалтике, летом 1945-го, уже после Дня Победы, ему повезло снова. Командир полка подшучивал над своим доморощенным изобретателем, но помог оперативно демобилизоваться и дал направление для поступления в Ленинградский государственный университет.
Приехал новоиспеченный дембель-абитуриент в Ленинград, когда прием в вузы закончился. Однако «рекомендательное письмо из войск» сыграло роль. Так одним студентом-химиком в Ленинградском государственном университете стало больше.
После окончания этого учебного заведения с отличием он последовательно стал кандидатом и доктором химических наук, профессором. Но в 1966 году неожиданно для многих принял заманчивое предложение от белорусских коллег, если конкретнее, от министра высшего и среднего образования Михаила Дорошевича (его именем названа улица в центре Минска), попробовать силы в новых условиях. Новоиспеченный профессор Новиков принял вызов.
Примечательно и то, что максимально серьезных успехов добился, когда переехал из Ленинграда в Минск. Здесь за 40 (без малого) лет работы он создал крупную научную школу на базе Белорусского технологического института (сейчас — Белорусский государственный технологический университет), свыше 20 лет возглавлял кафедру общей и неорганической химии. Подготовил 6 докторов и около 60 кандидатов наук для Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Таджикистана. Его книги изданы многочисленными тиражами по всему СССР, в нашей республике, а также в Китае. Он стал ведущим химиком-неоргаником республики, заслуженным деятелем науки БССР, фигурой всесоюзного масштаба как минимум.

Научный детектив
Наиболее интересными для нас в современном контексте выглядят изыскания профессора Новикова в сфере альтернативных источников энергии. Здесь многое совпало. В числе первостепенных задач белорусской науки Президент Александр Лукашенко с конца 1990-х определил поиск и внедрение альтернативных источников энергии, снижение зависимости республики от импорта энергоносителей и т. д.
Возникает вполне уместный вопрос: «Каким образом Беларусь могла выполнять пожелания первого лица страны?» Ведь до сего времени история создания и использования альтернативного топлива в независимой Беларуси, БССР, да и во всем СССР — история упущенных возможностей и трагедия крупных ученых-одиночек. И в их числе оказался профессор Новиков. Это весьма любопытная история, детективная.
Поясню: в 1970-х так называемая водородная энергетика была самой модной темой в научном мире. Да, атомные станции представлялись тогда панацеей, способной решить все энергетические требования жителей планеты. Однако разумные подсчеты показывали: атомная энергетика может обеспечить только 25 % потребностей человечества. Вот здесь на авансцене и появился альтернативный энергоноситель — водород. Он казался хорош всем, беда была только в одном: для получения его в чистом виде требовалось затратить много энергии, а значит, и денег. Тем не менее в богатом СССР это направление решили активно развивать. Тут открывался творческий простор для передовой химической науки и технологий.
В начале 1980-х в столице при Белорусском технологическом институте создали лабораторию, которая одной из первых в СССР стала заниматься решением данной мировой проблемы.
Лаборатория вошла в мощную всесоюзную систему. И вот здесь у научного руководителя минской лаборатории профессора Новикова появилась оригинальная идея. У воды в химическом плане есть своеобразный брат близнец — сероводород. При расщеплении этого вещества, побочного продукта добычи нефти и газа, можно было получить и ценный водород, и довольно полезную, нужную серу.

Звезда академика Легасова
Идея ученого из столицы Беларуси получила максимальную поддержку от руководства Академии наук СССР. И в 1970–1980-е прославившийся на весь мир академик Валерий Легасов стал часто бывать в Синеокой, постоянно останавливаясь дома у профессора Новикова, ставшего если не другом ему, то ближайшим коллегой.
Их тандем представлялся чрезвычайно удачным. Легасов курировал в стране атомно-водородную тематику, являлся любимцем и негласным наследником директора всесоюзного института атомной энергии (ИАЭ), президента академии наук СССР Александрова.
Несмотря на специфику своей работы, Валерий Алексеевич прямо был заинтересован в развитии альтернативной «мирному атому» энергетики. Нет, не так. Необходимо уточнить как минимум один важный момент.
У всех атомных электростанций есть свои особенности, создающие их руководителям проблемы.
У потребителей в течение суток, времени года и прочего ее необходимость в электроэнергии колеблется: электричества днем надо больше, чем ночью, а зимой — больше, чем летом. В результате таких перепадов появляется провальная и невостребованная энергия. Атомный реактор ведь не горелка: захотел — подкрутил побольше, стало слишком ярко — открутил обратно.
Логично, что источником энергии для производства вожделенного водорода из воды или того же сероводорода могла стать энергия от атомных электростанций в тот самый провальный период. Например, ночью.
Таким образом Легасов — крупный химик и физик-атомщик — оказался в нужное время и в нужном месте. Профессор Новиков в этом тандеме был генератором и исполнителем идей. Идеальная расстановка сил, бронебойная.
Однако дьявол, как всегда, прятался в деталях, мелочах, случайностях. Они все и погубили.

Без Нобелевской премии
За полгода до Чернобыля академика Валеру (так его называли близкие друзья) как раз поставили куратором над всеми АЭС Советского Союза, но в курс дела он вошел не до конца. Когда Чернобыль рванул, Валерий Алексеевич находился там же на следующий день, получил сильнейшую дозу облучения — ничего сделать уже было невозможно.
В итоге все — начиная от тогдашнего президента Академии наук СССР Александрова и заканчивая президентом страны Горбачёвым — сделали крайним именно его, академика Валеру. Через два года после чернобыльской трагедии, 27 апреля 1988 года, Легасов покончил с собой.
Без идейного руководителя в Москве, обладавшего невероятными связями на уровне союзного правительства и ЦК КПСС, с последовавшим вскоре распадом республиканских связей водородная тематика закрылась, а лаборатория в Минске самораспустилась.
Не произойди всех этих чудовищных совпадений, интереснейшую научную задачу, связанную с рентабельным получением водорода в промышленных объемах (из воды или сероводорода, не суть), решили бы именно в СССР при участии белорусской научной школы. А разработчики этого направления могли бы с высокой степенью вероятности претендовать на получение Нобелевской премии, ибо это был прорыв очень и очень серьезного уровня, но… история не знает сослагательного наклонения.
Несмотря на то что в одну реку дважды не входят, в нашей стране в начале 2000-х попытались опровергнуть этот древний принцип. Решение водородной проблемы в масштабах Беларуси опять стало актуально. И профессор Новиков, перешагнувший уже 75-летний рубеж и продолжавший заниматься наукой, преподавательской работой, домом и всем тем, от чего у здорового молодого мужика голова пошла бы кругом, опять включился в работу. Такого жара от него уже никто не ждал. Он помолодел, выпрямился, генерировал новые идеи. И работал, работал, работал.
К несчастью, решать сложнейшую проблему мирового масштаба без прежней материальной и научно-технической базы пожилому ученому оказалось не под силу. К тому же в начале 2004-го он стал чувствовать себя плохо. Ему сперва поставили несколько обнадеживающих диагнозов, а потом грянул гром: рак последней, четвертой стадии.
Гроза и закат
26 июля 2004 года он умер. Острее всего запомнилось, как сразу же после его смерти, в болезненной стадии прощания, две ночи подряд в раскаленном Минске творились сумасшедшие грозы… И на эти часы жара спадала.
Город сотрясало от чудовищных залпов — будто из тысяч орудий. Его, как слезами миллионов плакальщиц, заливало прозрачными небесными реками.
Кто-то скажет про банальное совпадение, кто-то, наоборот, про своеобразный прощальный обряд со стороны природы, оценившей усилия человека, который подошел максимально близко к разгадке ее важных тайн, но остановившийся…
Что-то есть в этой теории. Георгий Иванович Новиков всю жизнь оставался солдатом, бойцом великих войн (с одной стороны, с фашизмом, с другой — с тайнами природы, желая проникнуть в их суть). И право на такие космические почести определенно заслужил.
Да и тот факт, что Беларусь в плане развития атомной энергии сделала свой выбор, профессора Новикова определенно обрадовал бы.
От редакции
К выходу в свет готовится книга нашего коллеги, члена Союза писателей Беларуси Александра Новикова. Она называется «Образы» и посвящена неизвестным широкой общественности удивительным фактам и персонам современной белорусской жизни. История, которую мы вам сегодня рассказали, — отрывок из этой художественно-публицистической повести.
Еще материалы рубрики:
Он признался в 33 страшных преступлениях. История первого в СССР серийного убийцы